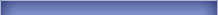Когда создавались
первые
главы летописи жизни и творчества балетмейстера, художественный мир
России был
полон блудными сыновьями. Из другого дома - Московского Художественного
театра,
где еще цвели таланты патриархов рода - К.С.Станиславского и
В.И.Немировича-Данченко,
ушли в неизведанный путь Мейерхольд и
Вахтангов. Искали свои дороги Таиров, Марджанов. В смежных искусствах им
вторили Скрябин и Врубель, Блок и Маяковский, Мандельштам, Хлебников,
Ахматова
и Пастернак. Этот мир искусства ,будто бросая вызов старшим коллегам
«Мира
искусства»,заимствуя их опыт ,бурлил, множился, захватывал все более
обширное
художественное пространство. У «муз» и
«героев» Касьяна Голейзовского на разных временных отрезках были свои
спутники
из смежных искусств. Они создавали многоликость мотивов его искусства,
трудно
поддающихся каким бы то ни было однозначным определениям. И во всем этом
многоголосье существовал тот Голейзовский, которого узнало потом и наше
поколение.
Он стал танцовщиком Большого
театра в 1909 году – через четыре года после кровавого воскресенья. Его
постановки увидели свет рампы, когда уже два года шла первая
империалистическая
война (1916) . То были одни из самых тревожных лет в русской
художественной
культуре. Чем больше рушилась традиционно-гуманистическая вера ХIХ века в силы и возможности отдельной человеческой
личности, тем сильнее, отчаяннее боролось за прорыв к этой вере, к
какому-то
иному пониманию жизни русское искусство. Уже прошлым днем казались
основателям
Художественного театра его ранние постановки. Путь символистских исканий
уже
прошел в Театре Комиссаржевской молодой Мейерхольд. Да и сам символизм,
оставив
в художественной культуре отголоски своих
тем, отошел в прошлое. Коллективистские идеи, наподобие
знаменитой
соборности символистов, сменял индивидуализм. Вместе с ним воскресали и
традиционные темпы роста искусства – главенство нематериальных
ценностей,
самоцельность красоты природы, музыки, ощущение иллюзорности жизни,
окружающей
человека. Реальностью начинал представляться лишь духовный мир
исключительной
личности, вынужденной существовать в постылом быте. Эти традиционные
темпы
лирического романтизма ХIХ века
смыкались с различными театральными
течениями, господствовавшими в русской художественной культуре
первого
десятилетия века двадцатого, со стилизаторскими исканиями подлинного
героя в
прошлых эпохах, с культом Вечной Красоты, которая «спасет мир», с
элитарным
погружением в фольклор, эстетику площадного народного театра – от
итальянской
комедии масок до русского скоморошества. Возникали новые вариации на
традиционные темы искусства. Поиски свободы сплошь и рядом оборачивались
свободой от всех норм – как эстетических, так и моральных.
В мутных томлениях,
неясных
предчувствиях надвигающейся жизни пытались прорвать тенета безверия
мастера
культуры самых разных направлений, индивидуальностей, темпераментов. В
котле
этих лет начинали свой путь и художники, которым вместе с их старшими
коллегами
предстояло стать творцами советского искусства. Через искусы пошли и
вырвались
к иным просторам Горький и Ахматова, Станиславский и Мейерхольд, Таиров и
П.Кузнецов и многие другие. Среди них выл и Касьян Голейзовский.
Когда он начинал
свой
творческий путь, балет в русской культуре занимал особое положение. На
рубеже
столетий и в самом начале нового века реформа А.Горского, вслед за ним
М.Фокина
выдвинули хореографический театр на авансцену художественной жизни.
«Искусство,
пытаясь по-новому увидеть жизненные явления, нащупывало новые формы
взаимоотношения с действительностью, основываясь на выявлении глубинных
связей,
вторгаясь в область иррационального, ища пути изображения
абстрагированных
чувств и явлений… Хореографический театр оказался тем самым способным
решать
задачи, трудно доступные другим видам театра. То, чего тщетно добивался
Станиславский, ставя ранние пьесы Метерлинка, может быть , легче было бы
достичь средствами хореографии,..(балет)соответствовал той тяге к
красоте,
которая лежала в основе многих начинаний на рубеже веков…возвращал, как
казалось в ту пору, человеку способность непосредственного выражения
чувства,
которую цивилизация отняла у него. Недаром привлекала «искренность»,
«стихийность»
танца Дункан и вакханалии Фокина и
Горского. Правда
балета –
всегда, правда театральная, а не жизненная»*. Если в самом начале века
Горский
начинал реформу, отталкиваясь от ранних опытов Станиславского, а Фокин
пронизывал хореографию исканиями «Мира искусства», то теперь сами
смежные
искусства и, в первую очередь,
драматический театр, ставшие свидетелями первых триумфов Русских сезонов
Дягилева, обращались к балету, как к источнику для своих поисков.
Тенденции эти
наглядно проступили в творчестве Мейерхольда, Таирова в
годы достижений
русского
балета.
Голейзовский начал
танцевать
в Большом театре и ставить за его стенами, когда искусство Горского
прошло свой пик – уже были созданы «Дочь Гудулы»
(1902) и «Саламбо» (1910).
Сам
Горский, как и его коллеги, находился в стаи смутных исканий. По
существу для
Голейзовского и его сверстников уроки Фокина и Горского были уже
слагаемыми
традиций, которые им предстояло освоить вместе с традициями
академического
балета и выработать к ним собственное отношение. Голейзовский всю жизнь
называл
Горского и Фокина своими учителями, и после нескольких лет шатаний от
одного к
другому пришел к заключению, что эти мастера являются дополнением один
другого.
От
Горского и Фокина к Голейзовскому перешло ощущение художнической миссии
искусства, понимание значительности личности его творца. Как тра
Первые опыты
Голейзовского
вторили «бродячим» сюжетам и темам его
учителей, но незримо от них отличались. Молодой хореограф сначала
работал в
«Интимном театре», потом до самой революции – в «Летучей мыши» Балиева.
Эстрада
погружала начинающего балетмейстера в эстетическое варево времени;
академическая школа заявляла на молодого художника свои права, рождала
вероотступнические идеи бунта против ее, казавшихся ветхо-заветными,
скрижалей-
так начались педагогические эксперименты в школе и первые опыты в
области
танцевального языка. Горский начал реформу академического балета с
сюжета,
Фокин – с его структурных форм и стилистики. Голейзовский очень скоро
сфокусировал внимание на реформе лексики. Ей предшествовали опыты
эстрадных
пантомимных миниатюр. Постановки «Интимного театра» и «Летучей мыши»
«строились
по принципу пантомимы с «раскрытием» и «проработкой образов»*
В
1919 году Голейзовский сочинил один из вариантов балета «Маски».
Настроение
его, скорее трагическое…как дыхание спящего, отравленного каким-то
наркозом,
кошмар, которому не будет конца, оставалось в атмосфере искусства начала
века.
«Маски» были наполнены лиризмом. Здесь так же, как в «Прологе» на музыку
Н.Менера
(1921), в новых танцевальных формах вспоминались символистические
искания
одного из учителей Голейзовского в живописи – М. Врубеля. Тут возникали,
как и
в «Фавне», образы Вечной Красоты и стремящегося к ней, ей внимающего
героя – на
этот раз в обликах Коломбины и Пьеро.
Коломбина
воплощала кристаллически-чистый облик правды на фоне безобразия,
разврата и
пошлости. Замысел спектакля Голейзовского – тема беспомощности и недостижимости красоты в безобразном мире,
трактовка образов Неизвестного и Неизвестной (Коломбины и Пьеро). «Он
(Пьеро)
Голейзовский на всю
жизнь
сохранил свое понимание, и свои принципы воплощения эмоционального
начала.
Процесс рождения и роста страсти, стадии этого процесса остались
стержнем его
малых и больших балетов, определили и особенности их хореографической
драматургии, оказались важным этапом на пути становления
психологического
театра в советской хореографии, одним из его ответвлений.
В 1924 году
Голейзовский
вернулся в Большой театр – теперь уже не танцовщиком, а известным
балетмейстером. В 1925 году на сцене филиала – в Экспериментальном
театре –
состоялась премьера двух его балетов – «Иосифа Прекрасного» на музыку С.
Василенко и «Теолинды» на музыку Ф. Шуберта. Они подвели первые итоги в
сложнейшем конгломентаре творческих исканий балетмейстера.
Балет «Иосиф
Прекрасный» был
вообще спектаклем о Красоте, не только в эстетическом, но и в
содержательном ее
понимании. Тема эта, как уже говорилось, с самого начала проходила через
искусство хореографа. Теперь, в «Иосифе Прекрасном» Голейзовский четко и
определенно рассказал о том, как она эволюционизировала. Тезис о том,
что
Красота вечна и исклю-чительна, что она одна из действенных движущих сил
мира,
остался в неприкосновенности. Изменилось лишь представление о том, что
является
подлинной Красотой.
Голейзовский сам
автор сценария.
Не следуя дословно за ходом событий, описанных в Библии, он сюжет к ряду
ударных эпизодов, основанных на противопоставлении острых черт,
характерных для
целого жизненного явления.
Образный строй
древней
библейской легенды о прекрасном юноше, погубленном завистливыми
братьями,
органически близок поэтической обобщенной образности балетного театра.
Такой
сюжет дает основу для красочного романтического зрелища, где танцу не
требуется
бытового оправдания, где хореографические образы выражают порой сущность
целых явлений.
По принципу
контраста построены
и действия балета: первый акт – Ханаанская пустыня – олицетворяет мир
естественности, свободы; второй акт – Египет – мир жестокого,
деспотичного
царства фараона. Каждый акт представляет собой законченный, замкнутый по
форме
эпизод со своей драматургической кульминацией и развязкой (в первом
действии –
это сцена продажи Иосифа; во втором –
эпизод обольщения и казнь). Эмоциональная контрастность первого и
второго
действий не нарушает, однако, целостности спектакля, решенного в едином
пластическом стиле. Пластическим лейтмотивом балета становится
скульптурно –
иероглифический рисунок поз, который как бы подчеркивает философский
смысл
происходящего и в то же время звучит как отголосок древности. Действие
балета
сжато, сконцентрировано, развивается динамично и напряженно. В этой
напряженной
четкости ритма, в системе образов, резко противопоставленных друг другу,
в
самой балетмейстерской организации спектакля ощущалось созвучие эпохе.
Влияние
времени, прежде всего, сказывается, как всегда у Голейзовского, прежде
всего на
образном строе его постановки, на композиции, структуре, приемах
оформления.
Поиски новой
структуры,
композиции хореографического спектакля идут у Голейзовского не за счет
преодоления
условной природы балетного театра, пренебрежения законами его специфики.
Наоборот, балетмейстер подчиняет поэтической условной природе балетного
театра
и выбор сюжета, и приемы оформления, и характер сценического жеста.
Принцип
обобщенности образов и событий, условного решения быта, театрализации
фольклора
положен в основу работы всех создателей спектакля - балетмейстера,
композитора,
художника. Подчеркнуто - условны декорации Б. Эрдмана, дающие лишь намек
на
место и время действия, костюмы, выделяющие какую-то одну яркую деталь
национальной
одежды, наконец, сами хореографические образы, рисующие то свободный мир
Иудеи,
то красочный жестокий мир фараонова царства. При этом национальные
мотивы в
пластике так же, как и в музыке, лишь угадываются в общем
интонационно-ритмическом рисунке. Масса в пантомимных сценах не дробится
в
индивидуализированно-психологическом плане, как в балетах Горского и
Фокина, а
организована в стилизованно-пластические группы; ее движения подчинены
строгому
ритмическому рисунку. Пантомимные сцены балета построены на
выразительности
группового ритмизованного жеста. Образный строй пантомимы максимально
приближен
к общему скульптурно-пластическому стилю балета, благодаря чему
практически
стирается грань между танцем и пантомимой. Балет развертывается как
непрерывное
хореографическое действие, как цепь ярких скульптурно-пластических
картин, в
которых на первое место выходят не отдельные танцоры, а масса, пестрая,
красочная и необычно построенная.
Для характеристики
двух враждебных миров балетмейстер использует
контрастность
настроения, контрастность пластического рисунка, свойственные древним
ритуальным пляскам. Поэзией и лиризмом окрашены танцы, образующие
эмоциональную
среду, близкую Иосифу. В них хореограф подчеркивает мягкость, гибкость
движений, певучую песенность. В характеристике враждебной Иосифу сил
основную
роль играет острая, угловатая бытовая жестикуляция. Действие идет в двух
планах: лирико-поэтическом и остро-гротескном.
«Иосиф» был не
только
спектаклем высокого балетмейстерского и режиссерского мастерства,
новаторским
по структуре и лексической основе. В этой работе Голейзовский утверждал
право
балетного театра на раскрытие серьезных
жизненных и социальных конфликтов средствами хореографического
искусства.
Показанный в один
вечер с
«Иосифом Прекрасным» балет «Теолинда» Голейзовский назвал «изящным
хореографическим памфлетом с антирелигиозным уклоном». Живая ткань
«Теолинды»
создана из мастерского владения хореографа искусством пародии и его
пиетета к
романтической стилистике. Голейзовский весело смеялся над сюжетными
«бреднями»
старых балетов – всех этих ушедших для него в прошлое фей, разбойников
монахов
– и прославлял романтический танец. В хореографических композициях танец
романтической эпохи подавался тщательно, с любовью, «Теолинда»
обнародовала ностальгическую
любовь хореографа к старинному танцу. Спектакль открыл дальнейший путь в
его
взаимоотношениях с классикой. Мысль о том, что «так называемый
классический
танец принадлежит всем и никому», что «это танец чистой фантазии и
настроения.
Он всегда эволюционирует и не может умереть»
Голейзовский будет
повторять
теперь всю жизнь. В «Теолинде» не было настоящей сатиры. Тут властвовала
мягкая
ирония.
Сатира полнее, чем в
«Теолинде», проступила в одном из вариантов либретто этого спектакля – в
«Лизетте и Рауле», сочинявшемся для труппы Одесского оперного театра.
Тут она,
прямо апеллируя к эстраде, обрела форму злободневной полемики с
принципами
постановок Большого театра.
Как «Тщетной
предосторожности», в «Лизетте и Рауле» появляется мадам Марцелина. Она
«Тит
предков, но все время в ссоре с обмещанившимися актерами…»*.
Романтический
танец тут возникает на фоне современного городского пейзажа. В костюмах
исполнителей соединяются полудлинные пачки с прическами 20-х годов «под
скобочку» и современной кофточкой.
Элементы
злободневной
эстетической дискуссионности проглядывали и в замысле балета «Смерч». В
нем,
например, на балу у Владыки должна была появится муза танца Терпсихора:
«Она
была свободна и привлекательна, кто-то ее заметил и захотел себе
подчинить.
Нападения на нее были, скажем, неорганизованны и часто кончались
неудачей. Но
вот появился кто-то, кто подкупил друзей богини, и Терпсихора попала во
дворец.
Прикрыли ее наготу кринолином …, забинтовали грудь корсетом и в таком
виде
держали несколько веков взаперти. В часы, когда она оставалась одна, она
танцевала,
и прежняя ее красота так и сквозила из-под повязок, мушек и обручей»**
Извещение
о постановке Голейзовским балета «Смерч» на музыку Б. Бера появились
вскоре
после премьеры «Теолинды» и «Иосифа Прекрасного». Голейзовский был на
гребни
успеха. На его работы обратил внимание А. Луначарский. Он получает
всевозможные
предложения по организации заграничных гастролей, задумывает
четырехактный
балет «Лола» на музыку С. Василенко.
Балет
«Лола» должен был стать следующим этапом творческого пути хореографа –
спектаклем большой формы («Иосиф Прекрасный» состоял из двух актов). А
главное,
«Лола» замышлялась как балет–пьеса в традиционном жанре балетной
мелодрамы.
Критика в это время все чаще обращала на мелодраму внимание практиков
театра,
как на жанр близкий и любимый широкими массами зрителей.
Премьера
«Лолы» была намечена на февраль 1926 года. Репетиции в Большом театре
начались.
Но ситуация внутри театра была далека от идеала. Дирекция без согласия
хореографа
производила изменения в «Иосифе Прекрасном». Голейзовский бурно
протестовал. В
мае 1925 года в театре наметились некоторые разногласья между молодежью и руководством. К тому же
одновременно с репетициями «Лолы» В. Тихомиров начал тоже готовить
балетную
мелодраму – новую редакцию старой «Эсмиральды». Работа Голейзовского
затягивалась, и после тридцати с чем-то репетиций она прекратилась.
К
этому времени у Голейзовского созрел замысел еще одного многоактового
балета –
«Кармен» на музыку Б. Бера. Образ главной героини вновь
«Кармен», как и
«Лола», не
увидела свет рампы. Одноактный балет таково же названия, на иной формы,
на
музыку Ж. Безе хореограф поставил впоследствии(1932) с труппой
Московского
художественного балета, руководимого В.
Кригер. Пока же в отчаянной скуке и в ожидание «лучших времен», в
бесконечных
хлопотах о помещении в работе над миниатюрами протекало время до 1926
года,
когда Голейзовского приглашают в Одессу для реставрации «Иосифа
Прекрасного». В
1928 году хореограф повторил его в Харькове. В Одессе же
он впервые обратился к «Половецским
пляскам» из оперы Бородина «Князь Игорь».
Когда Большой театр
готовился
к десятилетию октябрьской революции, вспомнили о балете «Смерч», который
должен
был ставится еще в 1925 году юбилею восстания декабристов.
Голейзовский
замышлял
символический спектакль, построенный на аллегориях. Символика «Смерча» апеллировала к плакату, к окнам РОСТа,
варьировала мотивы «Мистерии-буфф» В. Маяковского и одновременно уже
изжившие
себя образы творчества самого Голейзовского, напоминавшие и даже
повторявшие,
например, его ушедшую в прошлое «Маску Красной смерти». «Смерч» оказался
запоздалым ребенком. «Смерч» эстетически возвращал к еще недавнему
прошлому. На
это прошлое еще трудно было смотреть со стороны, трудно оценивать и
анализировать. Но главное, видимо, в том, что жанр агитационного
монументального плаката был органически чужд индивидуальности и
творческой теме
Голейзовского. В его искусстве и современность, и злободневность
проступали в
других формах, иронических, открыто дискуссионных. То была, как
говорилось,
сфера эстрады. Она и раскрыла Голейзовскому свои двери через год после
провала
«Смерча», когда балетмейстер вновь и очень драматично покинул Большой
театр.
Началась работа в Московском и Ленинградском мюзик-холлах.