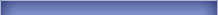Вернуться на предыдущую страницу
Московский
мюзик-холл был
организован в 1926 году. Своеобразным окликом
советской эстрады на запросы времени оказалась организация
мюзик-холлов.
Они должны были создавать обозрения, то есть эстрадные спектакли, в
которых
отдельные номера объединялись в единое целое темой или сюжетом. Начав
работать
в Московском мюзик-холле еще до того, как стал его главным
балетмейстером,
Голейзовский фактически попал в близкую ему стихию. В 1927 году, когда
мюзик-холл показывал еще сборные концерты, он поставил на его сцене
«Балетные
интермедии сегодняшнего дня». В1928 году из выпускниц хореографического
отделения Техникума имени А. В. Луначарского при Московском мюзик-холле
была
организована хореографическая труппа, и ее возглавил Голейзовский. С ней
он
поставил балетную часть в обозрении «Чудеса ХХХ века» (1928).
В том же 1928 году
открылся
Ленинградский мюзик-холл. Голейзовский начал работать и там. В Ленинград
перенесены «Чудеса ХХХ» (теперь обозрение
называлось «Чудеса ХХI века»). Им
также были поставлены танцы в ревю
«Туда, где льды» (1929), в обозрении «Букет моей бабушки» (1929),
«Шестая мира»
(1931). Все эти программы шли с музыкой И. Дунаевского.
Мюзик-холл с его
требованием разнообразия
не только развивал главные мотивы творчества Голейзовского. Он расширял
сферу
его творческих поисков, давал хореографу возможность побывать себя в
новых для
него танцевальных сферах, продолжать работу над начатым раньше. В стенах
мюзик-холла Голейзовский ставил жанровые сценки. Отзвуком их стал балет
«Советская деревня» (1931) на музыку Б. Бера в труппе Художественного
балета
под руководством В. Кригер. Из мюзик-холла вышли его синкопические
«Хореофрагменты»
на музыку Дунаевского, ставшие целым отделением программы, показанной
Голейзовским в Большом театре. С мюзик-холлом связан, как уже
говорилось,
важный этап его взаимоотношений с фольклором.
Интерес к
национальным танцам
возник у Голейзовского с самого начала его творческой деятельности.
Тогда они
входили в комплекс его хореографических стилизаций. Сами названия танцев
–
испанский, цыганский, восточный, китайский – говорили, что круг
интересов
балетмейстера ограничивался материалом уже знакомым академическому
балету,
ставшим его частью в форме танца характерного. Со стандартами
характерного
танца Голейзовский и вступал в спор.
Национальный
характер у
Голейзовского рождается из музыки, из знакомства с иконографическим
материалом,
создавался по национальным мотивам, пропущенным через смежные искусства.
При
этом музыкальная основа для них выбиралась из сочиненной на народной
основе профессиональной
музыки – Гранадос, Альбенис. Ей доверялось полностью, через нее
возникало общее
с этнографией.
Вскоре испанская
тема в искусстве Голейзовского спроецировалась на
замыслы многоактовых спектаклей – «Лола» и «Кармен». Конечно, эти
спектакли были
далеки от подлинного фольклора. «Не надо только делать Испании как она
есть –
пояснял Голейзовский – копия наша в таком случае, наверняка будет хуже
оригинала, потому что нет ничего ярче жизни. Надо дать яркое и сочное
впечатление Испании». Этому принципу хореограф оставался верен всю
жизнь. Но
изменится его степень приближения к народным источникам, а отсюда –
степень
верности впечатлений от них.
К концу 20-х годов
Голейзовский начинает заново, все пристальней изучать народное
искусство. Пока
материал все еще набирается из книг, музыки, литературы, живописи. Если
появляется возможность, хореограф просит показать ему движения,
комбинации уже
театрализованные, сценически обработанные. Такой подход к национальному
искусству заранее предполагает пластическую стилизацию. Но, по сравнению
с
Фокиным и прежними стилизациями самого Голейзовского, они обретают
другую
тональность. В них исчезает ощущение загадочности другой жизни, которая
манила
прежде художников в чужих культурах. Мысли хореографа обращаются к
переосмыслению
фокинского опыта.
Вслед за Фокиным и в
полемике
с ним рождается концертная программа 1927 года, которую Голейзовский
показал
силами балетных артистов Большого театра. В ней приняли так же участие и
другие
исполнители. В программу вошли эксцентрика, стилизованные испанские
танцы, и
целое отделение, поставленное на музыку Листа. Своеобразным продолжением
этого
концерта стал показанный в 1933 году вечер, состоявший из трех
одноактных
балетов. «Дионис» А. Шеншина напоминал танцы древних эллинов. Причем,
авторы
балета постарались реставрировать и воспроизвести движения античных
ритуальных
танцев. Сам Голейзовский увлекшись эллинизмом, встречался тогда со
знатоками
древнего искусства, изучал его и находил в приобретенных знаниях
совершенно
неожиданные возможности для хореографа, а главное акцентировал здоровое
начало
дионисийских празднеств. В этом спектакле было очень сильно
импровизационное
начало. Импровизации на строго заданную тему рождали своеобразную
«свободу в
оковах» для исполнителей.
В «Шопене»
Голейзовского
новая, не использованная доселе для танца музыка, необычные позы,
непрерывность
танцевальной кантилены как бы дополняли, развивали открытия Фокина на
ином
музыкальном материале. И подтверждали приверженность хореографа к
лирическому
романтизму.
В третьем отделении
был
показан балет «Чарда» - свободная композиция, стилизованная в характере
плясок
придунайских народностей.
В 1926 году, впервые
после
Фокина, Голейзовский обратился к «Половецким пляскам» из оперы Бородина
«Князь
Игорь». Фокин создал образ дикой стихийной степной силы – вариант
«русского
скифства», Голейзовский решил воплотить,
хотя и обобщенный, танцевальный образ восточных народностей, охватить
«Восток
примерно до Китая». В 1934 году «Половецкие пляски» в его постановке
вошли в
оперу «Князь Игорь» в Большом театре.
Одновременно
балетмейстер, несмотря на неудачу
с одноактным балетом «Советская деревня» (1931), продолжал работать над
русской
хореографией, сочинил либретто балета «Степан Разин». В спектакль должны
были
войти обрядовые русские танцы. На основе плясового элемента русского
фольклора,
по принципу «Половецких плясок», он хотел создать образ астраханской
народной
вольницы. «Разин» поставлен не был. А первым балетом, где элементы
русского
народного танца являлись частью его хореографической драматургии, стали
«Партизанские дни» В. Вайнонена на музыку Б. Асафьева (1937).
Мечта же
Голейзовского о
многоактном спектакле реализовалась в его «Спящей красавице» П.
Чайковского, к
работе над которой он обратился в 1934. И хотел ставить ее в Большом
театре,
развивая уроки Горского, сочиняя заново хореографический текст балета.
Голейзовский задумал и поставил утопию в форме сказки и жанре феерии. И
раскрыл
в ней свою творческую тему.
В, публикуемой в
этом
издании, «Спящей красавицы» хореограф подробно анализирует
изобразительные,
стилевые черты музыки Чайковского. Но ни разу не упоминает о принципах
развития
большой формы балета, о симфонизме партитуры, системе его лейттем, их
развитии,
сцеплении. Принципы мимодрамы у Голейзовского оказались пропущенными
через
уроки фокинских стилизаций. Потому и из анализа балетмейстером плана
Чайковского-Петипа возникает впечатление, что этот музыкальный спектакль
Голейзовский строил как большую поэму, в которой монтировались в единое
целое
на общем живописном фоне, в едином стилевом ключе законченные номера,
или
возникали характеристики эмоциональных состояний персонажей. Это принцип
лирической поэзии, лишенной эпического начала.
Работа Голейзовского
над
«Спящей красавицей» не прошла бесследно для истории советского балета. В
30-е
годы, включившись в поиски драматизации балетного действия, он сохранил
принцип
стилевого единства спектакля во всех средствах его выразительности. В
60-е годы
принцип этот советская хореография начнет развивать, соединяя с пиететом
к
законам музыкального симфонизма. Сам же Голейзовский найденное в балете
Чайковского продолжил в работе над иным содержательным и пластическим
материалом, когда он начал работать над жанром национального балета.
Личный интерес
Голейзовского
к народному творчеству совпал с общей тенденцией развития советской
культуры
этих лет. Встречаясь с подлинным фольклором, хореограф как бы проверял
свои
книжные впечатления о нем и восторженно погружался в стихию народного
творчества, пытаясь воочию, на практике осознать его традиции, его
ценность и
потенциальные возможности для развития хореографии. Как любой художник,
Голейзовский в первую очередь в фольклоре обращает внимание на то, что
ближе
его творчеству, ему самому: на безыскусственность народной пляски, на ее
на ее
здоровое начало и воспринимает это искусство, как живую поэзию. Меняются
пути
постижения национальных особенностей танца. Раньше он шел к ним через
произведения профессионального искусства: пытливо вглядываясь в
живопись,
скульптуру, архитектуру, вчитываясь в литературу, вслушиваясь в музыку,
стараясь в них увидеть национальные пластические линии, ритмы, чтобы
воссоздать
их в хореографических композициях. Теперь, знакомясь с этнографией,
Голейзовский ищет и находит в ней прообразы профессионального искусства.
Раньше
причудливые пагоды могли вызвать в его воображении изысканный образ
танцовщицы,
вьющей танцевальные узоры. Теперь в плясках Дагестана он видит «статуи
из
темного и светлого мрамора», а обрабатывая фольклор, старается, чтобы он
вызвал
у зрителя ассоциацию с профессиональным искусством. Изобразительность
фольклора, образное начало каждого из его элементов становится для него
предметом самого пристального внимания и поклонения. Но при этом, изучая
подлинный фольклор, работая над подготовкой декад узбекского,
белорусского,
таджикского искусства, Голейзовский с самого начала принципиально
отказывался
переносить на сцену танец таким, каким он был в подлиннике. Балетмейстер
высвечивал заложенный в нем образ, театрализовал его, придавал ему
сценическую
форму, сохраняя структуру, живописный облик, смысл, характер
первоисточника.
Его поправки и советы вносили в танцы культуру и филигранность рисунков.
Танцы
напоминали сошедшие со стен фрески. То была уже не стилизация, а
творческое
претворение национального искусства.
Между размышлениями о
том,
каким должен быть национальный балет, и его постановкой, через
творческую
судьбу Голейзовского вновь прошла классика – на этот раз советская. Ею
стал
«Бахчисарайский фонтан».
Как это было и со
«Спящей
красавицей», Голейзовский категорически отверг предложение дирекции
Минского
театра оперы и балета и даже пожелание композитора Асафьева перенести на
сцену
театра спектакль Р. Захарова. И так же, как в «Спящей», ему предстояло
ставить
пушкинскую поэму на готовое либретто и готовую музыку. Практика
показала, что
понимал Голейзовский «Бахчисарайский фонтан» иначе, чем его первый
постановщик.
Авторы первой балетной версии пушкинской поэмы прочли ее как
психологическую
драму, стилизованную под ХIХ век – время,
когда Пушкин создавал поэму. Они рассказали о драме впервые полюбившей
юной
шляхтянки, у которой отняли любовь и свободу. О том, как она сама
невольно
лишила счастья другую любящую женщину. И о том, как переродилась душа
варвара
под влиянием чистой любви. Искусство великой Улановой внесло в этот
спектакль
мотивы внутреннего сопротивления личности любому насилию.
Голейзовский
поставил
спектакль о контрасте двух начал – идеального, духовного, лишенного
плотских
эмоций, и земного, чувственного, только этими эмоциями и живущего.
Казалось,
хореограф просто повторял классическую концепцию романтизма с его
противопоставлением «духа небесного» «духу земному». Но он дал свою
оценку
романтическому конфликту. И этим обнародовал дальнейшее развитие ведущих
мотивов своего творчества. Мария только духовна. Она «страстная
католичка»,
обаятельна и красива холодной красотой. Это дух, неодушевленный плотью,
бесстрастный. Потому так хотелось хореографу исключить из своего
спектакля
образ Вацлава – чистый дух не может любить. Этот персонаж, необходимый в
спектакле Захарова, рушил концепцию Голейзовского. Зарема чувственна,
эмоциональна, как многие, ушедшие в прошлое героини постановок
Голейзовского
бывалых десятилетий. Но она живет лишь минутой, «живет настоящем, отдав
себя
добровольно в рабство чувству страстной земной любви»*. Это плоть, не
одушевленная духом. Поэтому гибнут обе героини. Путь к «души неясному
идеалу»
пролегает через сердце Гирея. Оба начала воссоединились в его душе.
«Иосиф Прекрасный»
был
спектаклем об идеальной красоте, приравненной к чистому духу. И о власти
чувственности, которая дух губила. «Бахчисарайский фонтан» заявлял о
необходимости их равновесия и гармонии.
Соответственно
концепции
выстраивал Голейзовский и хореографическую драматургию «Бахчисарайского
фонтана».
Идеальное – Мария говорила на обобщенном языке классики, окрашенной
польскими
интонациями. Сцены на ее родине строились на польском фольклоре, близком
театральному характерному танцу – краковяки и мазурки давно вошли в его
обиход.
Зарема – мир гарема, была «землей», реальностью. Ее партия строилась на
«плясовом
фоне Востока и Юга», противостоящем цельности и классики, и
характерности. Хореограф
взял из подлинного фольклора номера, краски, образы, отвечающие образу
томительной подневольной жизни. Использовал, театрализовав, настоящие
гаремные
танцы, которые изучал у старых танцовщиц во время работы в Узбекистане.
В 1945 году после
окончания
Великой Отечественной войны «Бахчисарайский фонтан» был перенесен
хореографом
во Львов. А перед самым началом войны москвичи увидели первый таджикский
балет
«Ду гуль». Спектакль был показан во время национальной декады. Ставил
его
Касьян Голейзовский.
В «Ду гуль» нашли
свое
воплощение мысли хореографа о форме, структуре национального спектакля,
которые
он высказал по поводу балета «Шахида». Спектакль был целиком поставлен
на
национальной основе подлинных танцев разных социальных слоев
Таджикистана и
Узбекистана, которыми ток восхищался хореограф. Переработанные,
переплавленные,
они служили, как гаремные танцы «Бахчисарайского фонтана», раскрытию
состояния
толпы и личных эмоций. Настроение массовых танцев подготавливало соло
героев,
соло героев - танцы кордебалета. Чисто
хореографическая часть спектакля жила на фоне тщательно разработанных и
театрализованных
эпизодов народного быта. Народные типы, почти маски, оказывались и
«проходными
персонажами», и действующими лицами балета. Достаточно сравнить впечатление хореографа
от народных танцев, их описание и режиссерский план балета «Ду гуль», и
станет
ясно – спектакль этот был насыщен национальным строем мышления,
народными
эстетическими идеалами, представлениями, характерами. И главные
положительные
его герои, и отрицательные персонажи в концентрированной как в
фольклоре,
опоэтизированной как в балетном искусстве форме раскрывали образ
мышления
таджиков, их вековые представления о добре и зле в новых современных
ситуациях.
Фольклорное
мышление,
фольклорная стилистика стали для хореографа не просто реальностью. Они
наложили
отпечаток на его собственное ощущение мира и творчество.
В годы Великой
Отечественной
войны Голейзовский приехал в Васильсурск, где находилось в эвакуации
Московское
хореографическое училище. Балетмейстер, вспоминая свой опыт постановок
детских
балетов, используя уроки эстрадных номеров, продолжал работу над
сценическим
воплощением фольклора. Над фольклором, соединяя его жанровостью, он
работал и в
Ансамбле НКВД. В 1946 году в Свердловске намеревался поставить русский
балет
«Каменный цветок» по сказам П.Бажова на музыку А. Фридлендера.
Голейзовский – уже
зрелый
человек и зрелый мастер. И опять, как во все годы, возникает тоска по
театру,
собственной труппе. Вновь начинаются годы странствий. Он уходит из
Ансамбля
НКВД и принимает приглашение во Львовский театр оперы и балета.
1950-е годы в жизни и
творчестве Голейзовского полны постоянно рождающимися идеями, которые
все чаще
остаются лишь в замыслах. Из Львова он переезжает в Свердловск, затем
хочет ставить
в Большом театре «Коппелию», начинает работать с его труппой над балетом
Моцарта «Безделушки». Но творческая поэзия хореографа кажется не только
отдельным практикам, но и многим теоретикам балета изолированной от
общего
процесса развития советской хореографии.
До начала 60-х годов
Голейзовский работал фрагментарно, урывками. Ставил концертные номера
для
балерин Большого театра, на эстраде работал с А. Редель и М.
Хрусталевым, А.
Ким и Ш. Лаури. Артисты, таланты которых он так замечательно умел
раскрывать,
вновь, как и во времена отчаянных нападок на балетмейстера в 20-е годы,
остаются его соратниками, просят хореографа работать с ними.
Голейзовский начал
ставить и в самодеятельности, думал уехать в Йошкар-Олу, чтобы
организовать там
свою студию, а потом театр. Для поколения, знакомившегося с нашим
театром в эти годы, имя хореографа превращалось в
легенду. А легенда эта жила, сочиняла,
рисовала. Лепила, резала из дерева скульптуры. Ни один день не проходил
бездеятельности, в жизни вне искусства. Не было сцены – эпизоды из
будущих или
уже осуществленных постановок появлялись на бумаге. Не было красок –
из-под
пера рождались стихотворные либретто. А когда не было ни пера, ни
бумаги, ни
сцены – существовала природа, лес. И руки творца превращали корни
деревьев в
причудливых, загадочных и мудрых лесных существ. Не изменяя своему
восторженному преклонению перед Востоком, Голейзовский в это время
по-особому
пристально вглядывается в русскую природу. Ее созерцание дарило
художнику мудрое
знание истинных ценностей жизни, их вечности, ощущение неразрывной связи
человека с природой, естественной гармонией с ней. В эти годы
Голейзовский
обращается к фольклору как ученый, постигший его тайны на практике, а
теперь
пытающийся проанализировать собственный опыт. Он пишет книгу «Образы
русской
хореографии», создает труд о восточном танце, еще ожидающей публикации.
К пятидесятилетию
своей
творческой деятельности Голейзовский создавал вечер хореографических
композиций. Молодежь, только что вышедшая из школы, постоянно занятая в
театре,
как когда-то на заре творческой деятельности мастера, начала вместе с
ним
работать над номерами. С большим трудом удалось достать помещение.
Молодой
композитор, студент консерватории О. Чайгейшвили безвозмездно каждый
день играл
на репетициях. Так же рисовались эскизы костюмов, так готовился весь
вечер.
И вот, в начале 60-х
годов,
Голейзовский вновь заговорил в полный голос.
Когда в Концертном
зале имени
Чайковского состоялся вечер его хореографических композиций, и когда
было
объявлено имя их постановщика, аплодисменты взорвали зал. Это была
встреча с
большим искусством, с большой честностью в искусстве, со старейшим советским художником, который через все свое
творчество пронес гуманистические заветы русской культуры.
В свете нового этапа
развития
советского балета вечер этот заставил заново взглянуть на творчество
балетмейстера.
В 1962 году
искусство
Голейзовского вновь увидело свет рампы Большого театра. На его сцене
состоялась
премьера балета «Скрябиниана». Два года спустя – многоактного балета
«Лейли и
Меджнун».
Балет «Лейли и
Меджнун»
задуман и решен как красивая легенда о возвышенной, трогательной,
трагической
любви юных героев, разделенных силой сословных предрассудков. Ив музыке
Баласаняна, и в сценарии балета (либретто К.Голейзовского и С.Ценина
написано
по мотивам восточных легенд) любовная, лирическая линия становится
основной.
Собственно действие сосредоточенно в танцевальных монологах и диалогах
героев,
раскрывающих их сложный и богатый душевный мир. Интимные переживания
Кайса и
Лейли составляют источник драматизма многоактного балета.
И вечера
хореографических
композиций, и балеты стали своеобразным итогом творческого пути
крупнейшего
мастера советской хореографии. Показали, как, не отказываясь от
достигнутого,
он искал, находил и обрел свою тему, свой путь в искусстве, какими
нитями
связан он с общим развитием советского балетного театра. В это время в
дневниках, заметках на страницах календаря, в интервью и разговорах
Голейзовский все чаще произносил слова «ассоциации», «ассоциативное
мышление»:
«Только ассоциативно мыслящий человек может быть художником», утверждал
он. Ни
одно искусство немыслимо без ассоциаций, и когда оно творится и когда
воспринимается. Вопрос только в том , на каких ассоциациях строится
творчество
того или иного художника, какой ассоциативный ряд рождает образный строй
его
постановок.
Он начал с
ассоциаций в
профессиональном искусстве. Субъективное отношение к увиденному,
прочитанному
создавало образный строй ранних постановок балетмейстера. В них он шел от эрудиции к пластическому
впечатлению от узнанного. Позже они дали ему возможность хореографически
воссоздать заложенный в произведение образ. Изучение истоков фольклора
стало
для Голейзовского изучением основ жизни, ее вечных движущих сил и
ценностей.
Знакомство с фольклором слилось с
постижением образов природы. Сами образы природы или запечатленные в
фольклоре
стали отправной точкой в создании его сценических образов.
Профессиональное,
фольклорное, природное сцеплялось в единый нерасчленимый конгломерат.
Отсюда
возникал его эстетический и нравственный идеал, воплотившийся в образах
Лейли и
Меджнуна. То были вечные герои, олицетворяющие мироощущение их
создателя.
В Лейли и Меджнуне
дух
воплощался в душевности, эмоциональной отдаче своего «я» другому.
Материя была
оживлена духом, потому классика органично соединялась со свободной
пластикой и
фольклорными мотивами. Между Лейли и Меджнуном не могло быть конфликта.
Они не
могли дополнять друг друга. Это были два единых голоса в их мужском и
женском
воплощении, которым судьба предназначила петь в унисон. Оба были созерцательны, их гармонию разрушали внешние
силы.
Идеальным
исполнителем роли
Меджнуна стал замечательный танцовщик большого театра В.Васильев. В свое
время
в «Иосифе Прекрасном» В.Ефимов раскрыл образ Красоты духа, не
пожелавшего
вступить в конфликт с чувственным, земным началом. «Бесполость»
танцовщика,
«рублевские», иконописные линии его пластики отвечали художественному
идеалу
хореографа. В.Васильев – артист удивительной душевной чуткости, теплоты,
«материальный», земной и одухотворенный стал олицетворением творческой
темы
зрелого мастера.
…Касьяна Ярославича
Голейзовского не стало в начале мая 1970 года.
…На Востоке, который
так
любил хореограф, есть понятие «усто». Это одновременно мастер и учитель,
самый
уважаемый народом художник. Усто балета стал для советской и не только
советской хореографии Касьян Голейзовский. Сегодня нет в нашем искусстве
хореографа, исполнителя, на которого, так или иначе, не оказало бы
влияния его
творчество. Безымянно вошли в обиход современной хореографии не только
отдельные лексические приемы Голейзовского, но и принципы его построения
образов – требования беспрерывно льющейся танцевальной речи, слияние в
ней
изобразительного и выразительного начал, свободной пластики с
классическим
танцем и многое другое. Влияние хореографа видно в работах Л.Якобсона,
Ю.Григоровича. Крупнейший американский хореограф Дж.Баланчин так же
считает
себя учеником Голейзовского. Его постановки он видел в Петрограде в 20-х
годах.